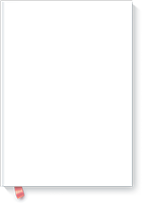Мы боимся темноты, монстров, скрипа дверей в пустом доме. Но что, если самый страшный кошмар — это тишина? Представьте, что вы — последний землянин. Планета разрушена, космический корабль уносит вас в неизвестность, и единственное, что вы слышите, — собственное дыхание. Так случилось с Ноем, художником, автором книги The Last Book. Принесли его заметки. В них — попытки не сойти с ума, тоска по людям и обращение к таинственным «Чужим».
***
Невозможно описать, что сейчас произошло! Если без слов никак, представьте себе, что я вот уже несколько часов бегаю туда-сюда по каким-то коридорам, рву на себе волосы, мимо летят звезды, и я только-только начинаю приходить в себя. Все это слишком знакомо. Какая-то реприза комы. Музыкантам бы понравилось — Da Capo al coma. Каково?! Господи, я теряю рассудок. Может, опять просплю день? Или неделю? Или сколько? Черт, да кому вообще я пишу?? Только не это. Я поставил два вопросительных знака вместо одного. Все, допрыгался.
***
Христиане, говоря о морали, часто напоминали, что всех нас ждет второе пришествие, а значит, надо вести себя соответственно. И вот апокалипсис наступил, а я, кажется, остался в полном одиночестве.
Мама с папой почти наверняка были в ту секунду в русско-турецкой бане в даунтауне. «Последняя миква». Выйдя на пенсию, они раз в пару недель стали устраивать там дневные свидания, а пропотев, обедали в одном из итальянских ресторанчиков Вест-Виллиджа. Мама говорила, наверное, что после хорошего пилинга и солоноватой воды она чувствует себя как рыба, еще не пойманная папой в заливе Шипсхед-Бей. «Посмотри наверх, вдруг там крючок!» — шутила она. А папа, готов поспорить, как раз начинал рассказывать ей про свою новую зарисовку. Ближе к концу света… то есть в последнее время… она всегда набрасывала что-то свое по его описаниям, а потом они вместе смеялись над тем, какие разные картины у них получались.
Я при любой возможности старался находиться с ними в эти моменты великих сравнений и открытий. Больше всего мне хотелось когда-нибудь найти человека, с которым можно заниматься тем же самым. Это желание было сильнее любых моих профессиональных, даже художественных стремлений.
Было… Я был в парке. Мой пес — его зовут Ривера (в честь художника) — должен был пойти со мной, но не пошел. Наверняка что-то рисовал дома. Он всегда так поступает и в этот раз опять успел бы припрятать свою картину до моего возвращения. Когда-нибудь он признался бы, где зарыл свои холсты, мы сложили бы их, и получилось бы что-то величественно-монументальное. А пока я каждый день приходил с работы, спрашивал, куда он их дел, и не получал ответа. Ривера гораздо лучше меня умел хранить благородное молчание. Потрясающее качество.
Прошедшее. Время. Меня охватывает тяжелое, тупое чувство, когда я понимаю, что пора ставить точку. «Умел». Какой кошмар.
***
Я уверен, что Иисус одобрил бы все эти занятия, пусть мама с папой и были светскими людьми, а Ривера, по-моему, — отошедшим от церкви католиком. Не представляю, что он, умирая на кресте, мог бы пожелать миру что-то лучше этой картины: родители вместе хихикают над рисунком рыбы, папа театрально ищет у себя над головой рыболовный крючок, Ривера корпит над своим шедевром и из скромности прячет успехи от лучшего друга и соседа по комнате.
Мне хотелось бы тешить себя мыслью, что я сам смог бы придумать картину получше. Разве я, Страшный судья, фактически последний представитель своего биологического вида, стану эгоистично воображать собственное семейство вершиной мироздания? Но чувства сильнее меня. Мы и правда делали массу всего чудесного. Впрочем, не буду спорить. Все это действительно кажется мне лучшим просто потому, что я умею думать только за себя и смотреть своими глазами, а не еще чьими-нибудь.
Человек не создан для такого уединения, для обстоятельств, когда эмпатия невозможна в принципе. «E unibus pluram — в едином множество», — изрек Никто без всякой иронии. Здесь никого нет, а мне нужен тот, кто будет смеяться вместе со мной над этим дневником и над рыбой в нем, иначе остается просто сидеть и мерить самому себе пульс. Мои друзья в ту минуту горбились над клавиатурой и ждали, когда кончится рабочий день. Или гуляли по городу в лучах солнца. Кто-то, может, даже пришел в тот парк, просто я не заметил. Я был занят писаниной и не хотел никого видеть и тем более ни с кем разговаривать!
Такие у меня были ощущения и мысли. И я мог себе их позволить — изобилие людей лилось через край, пусть я этого даже не замечал. А теперь серость и тишина… У меня больше никогда не будет ни роскоши нервничать из-за незапланированной встречи с приятелем, ни наслаждения мечтать о спокойствии наедине с собой. Мне больше не испытать того облегчения, когда приходишь домой после долгого дня и знаешь, что Ривера — хоть я этого и не видел — уже спрятал где-то в городе кусочки своего великого произведения и когда-нибудь передо мной предстанет мозаика многих недель, месяцев, лет.
***
Целыми днями одни коридоры. Точнее, целых два дня — по моим подсчетам. Мы уже не вращаемся вокруг Солнца, и на душе полный разлад. Вас не предупреждали, что мир распадается после ухода с орбиты? Да как они посмели? Эволюция меня к такому не готовила! Я предоставлен сам себе, и даже наши религии мало чем способны меня теперь поддержать.
Коридоры тут серые и длинные. Хотя, может, для вас — милые Пилоты, дорогие Чужие — они и разноцветные, если вы видите в каком-то другом спектре. Но не для меня. Трудно было постараться для гостя? Конечно, так и есть. Мне тоже было бы сложно подобрать украшения, поменяйся мы местами.
***
Каждые метров шесть — помещение, но все, которые я успел осмотреть, пусты. Какие-то трубки, иногда пара кабелей, все серое, все уходит в серые стены. Попалась одна банка, но внутри ничего. Содержимое как будто только что выскребли, но пыли тоже нет, поэтому кто знает? Я — нет, а следовательно, не знает никто. М-да… Королевское «мы» взамен «я» никогда еще не представало таким уместным и неуместным одновременно. Неужто и впрямь я тут один? Нет, невозможно. Хотя, черт возьми, случился конец «возможного».
Впрочем… Иначе и быть не могло. «Внук раввина разгуливает по кораблю пришельцев…» Земле стоило завершить свое существование подобной шуткой. Господи, до чего нелепо. И все-таки на этом корабле должно быть что-то, кроме меня, иначе зачем тут столько пустых кают?
***
Да. Могу подтвердить. Земле каюк. Я это сознаю. Я здесь. Это я тоже осознал. Больше тут, кажется, ничего нет, но все-таки что-то — или кто-то — просто обязано найтись. Это я более чем понимаю. Кажется, Ханна Арендт писала, что разница между благим уединением и ядовитым одиночеством заключается в том, что в первом случае человек может мирно беседовать сам с собой. Наверное, так и есть. Надеюсь, дневник считается частью моей личности, иначе плохи дела.
Уже три дня. Или четыре. Или как-то так. Надеюсь, странные отметки на стене и в книге показывают всю неуверенность моих подсчетов. Забавно стали работать числа, когда породивший их мир взорвался без следа, за исключением какого-то невротика из Нью-Йорка. Я один не могу быть основой исчисления. Математику называли языком Бога, но прошло всего три дня (или четыре), и ни одно живое существо не способно точно посчитать время. С нами покончено.
Покончено. Просто тело в космосе. И холод. Предполагалось, что языком Бога будет математика, но сейчас… сейчас божеством мне станет холодность. По идее, я должен адаптироваться, ведь так? Но ведь должно же быть что-то, кто-то, нечто, кроме меня. Я непременно найду себе компанию. Вне всякого сомнения. У меня предчувствие!
Я, Летописец, предрекаю! Хотя, скорее, просто надеюсь. Я ведь, в конце концов, лишь очередное космическое тело. Даже не скажешь «я жив», когда больше никого нет. Я просто затерянная в космосе пылинка, снедаемая тоской по глобусу, на котором лежала
***
День седьмой. Богу хватило недели, чтобы сотворить мир и отдохнуть. А я?.. Я уже почти смирился, что с миром покончено. Но теперь хотя бы понятно, зачем нужно было создавать человечество. Хуже одиночества ничего нет. Потеряв всех, неизбежно теряешь себя. В смысле, дорогие Чужие, не вы кого-то там потеряли. Я о себе. Дайте мне знак, договорились? Завтра опять приступаю к поискам. Я точно знаю, что еще не везде побывал. Только намекните какнибудь, что кроме меня еще что-то существует, если не считать силы, которая приносит мне поесть и забирает то, что организм делает с этой едой.
***
День седьмой. Никак не кончится. Боже, какую чушь я нес. Откуда мне знать, есть на корабле другие или нет? Мне известно ровно то, что здесь есть я, что я пишу, рисую все вокруг, как будто кто-то однажды откроет мой дневник.
***
И все-таки я с огромным удовольствием поговорил бы с вами. Или, по крайней мере, на вас посмотрел. Вам приходилось целых восемь дней (или чего угодно, главное — их количество) провести в полной изоляции от вообще всех живых существ? Исхожу из того, конечно, что вы живые существа. Извините, если задел. Я очень стараюсь соблюдать космическую политкорректность. Вдруг от этого зависит моя жизнь? Да или нет? Дайте, пожалуйста, какой-нибудь знак.
Но, повторюсь, неужели я — единственный человек, которого вы с собой прихватили? Я бегаю кругами, заглядываю во все открытые двери, но, даже если что-то и упустил, мне до сих пор не попалось ничего: не то что человек, но даже собака, растение, гриб… Не могу же я оказаться тут вообще один! Невероятно, что вы осмотрели целую планету и пришли к выводу, что главное — спасти вот этого землянина:
А если да… Если да, то почему не взяли моих родителей? Или друга? Хоть кого-нибудь? Почему не дали мне компанию? Да я упаду в обморок от счастья, если здесь кто-нибудь чихнет. Ну а если, кроме меня, на корабле больше никого нет, очень сомневаюсь, что вы правильно оценили наш биологический вид. Опять же, не обижайтесь. Или обижайтесь. Только выведите меня к другому человеку. К людям. Если вы это читаете, оставьте знак в моем завтраке.
По материалам книги The Last Book
Обложка поста — иллюстрация из книги
Заказать: