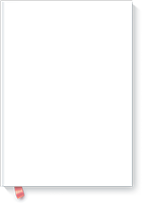Новая книга серии «Биография искусства» рассказывает о многоликости творческого пути Дега: о Дега-художнике, Дега-скульпторе, Дега-фотографе, знатоке оперы и балета и мастере изображать человеческие души через движения тел. Она настолько же интересная, насколько красивая. Давайте прочитаем несколько отрывков.
Танцовщицы Дега
Трудно сказать, когда именно Дега стал постоянно бывать в Парижской опере и за кулисами; известно, какие спектакли он посещал с 1885 по 1892 год, но сведения о предшествующих годах ненадежны. Он приходил в зал на улице Ле Пелетье, затем, начиная с 1875 года, во дворец Гарнье, хотя не абонировал кресло и не пользовался правом входа из зала за кулисы. Сами картины никакой определенности не вносят, поскольку Дега писал то, чего никогда не видел.

Дега
С начала 1870‑х Дега много раз создавал композиции, посвященные балету, показывая танцовщиц на сцене или, еще охотнее, в классе. Мгновенный успех этих композиций объясняет, почему он возвращался к ним снова и снова. Почему он выбрал эту тему? Дружба с музыкантами оркестра Оперы — фаготистом Дио, флейтистом Альтесом, виолончелистом Пиле, а также с любителями балета — гравером и художником по костюмам Людовиком Лепиком, писателем Людовиком Галеви — дала ему возможность лучше узнать ту среду.

«…Когда взгляд останавливается на этих попрыгуньях, иллюзия делается настолько полной, что все они оживают и трепещут, так и кажется, будто слышишь крики преподавательницы, пробивающиеся сквозь резкое пиликанье маленькой скрипки: „Пятки вперед, подберите бедра, держите запястья, работайте“; и с этим последним требованием поднятая нога, взвихрив юбки, опирается, напряженная, на верхний брус станка», — так Жорис-Карл Гюисманс описывает картины, которые Дега показал в 1880 году на пятой выставке импрессионистов.
Дега-фотограф
Поздний Дега, неизменно проявляя интерес ко всяким техническим новинкам, в 1895 году с энтузиазмом взялся за фотографию. Он приобрел фотоаппарат — вероятно, это был Eastman Kodak Number One — и орудовал им, как отмечал Даниэль Галеви, «с той же энергией, какую вкладывал во все», используя при этом весь традиционный арсенал фотографа, треногу и стеклянные пластинки — в основном потому, что моментальные снимки его не интересовали.
Дега фотографировал вечерами, поскольку дни были заполнены работой в мастерской и, кроме того, он хотел найти в фотографическом изображении «атмосферу ламп, или лунную». В доме своих друзей Галеви он сделал несколько лучших портретов, заставляя модель подолгу позировать, помещая ее в таинственное и иногда трудно определимое пространство и придавая ей почти призрачный облик; перед объективом поочередно позировали Ренуар и Малларме, Верхарн, семья Галеви, сам Дега — сосредоточенные, но не напряженные или не подающие виду, в тщательно продуманной мизансцене.
Дега и Мане: беспокойная дружба
Считается, что они встретились примерно в 1863 году в Лувре, где Дега копировал сразу на медном листе «Инфанту Маргариту» Веласкеса. Мане удивился смелости младшего собрата по профессии (Дега был на два года моложе) и, видя, что тот плохо справляется с начатой работой, осмелился дать ему несколько советов.
Трудно разобраться, где правда, а где легенда, когда речь идет об отношениях двух центральных фигур «новой живописи». Однако похоже, что больше всего художники общались в конце 1870‑х. Конечно, взаимное восхищение — после смерти Мане Дега покупал для своей коллекции произведения старшего друга — было омрачено обидными высказываниями обоих: Мане не одобрял того, что Дега мало интересуется женщинами, Дега упрекал Мане за его чрезмерную буржуазность, стремление преуспеть, за «гарибальдийскую» славу, которую тот приобрел после Салона отверженных.
Наиболее известный эпизод этой полной ссор дружбы — история с двойным портретом супругов Мане, который Дега написал в 1868 или 1869 году. На нем мадам Мане, превосходная музыкантша, играет на рояле в гостиной своего дома, а ее муж, раскинувшись на диване, слушает ее игру.
Много лет спустя торговец картинами Амбруаз Воллар, знавший Дега в конце жизни, попросил его рассказать об этом случае.«Кто разрезал эту картину?» — спросил он, увидев в мастерской художника изуродованный холст. Дега: «Представьте себе, это сделал Мане! Он счел, что мадам Мане плохо получилась. Как же я был потрясен, снова увидев свой этюд у Мане… Я ушел не попрощавшись, а картину забрал с собой. Вернувшись домой, я снял со стены маленький натюрморт, который он мне дал. Мсье, написал я ему, возвращаю вам ваши „Сливы“». Воллар: «Но после этого вы с Мане виделись». Дега: «Как, по‑вашему, можно было не помириться с Мане? Вот только „Сливы“ он уже продал».
Позже художники снова поссорились — из‑за сюжетов, взятых Дега из современной жизни. Мане утверждал, что уже работал над ними, когда Дега еще трудился над «Семирамидой». Дега справедливо возражал, что с начала 1860‑х интересовался сценами скачек и тогда же писал их не один раз.
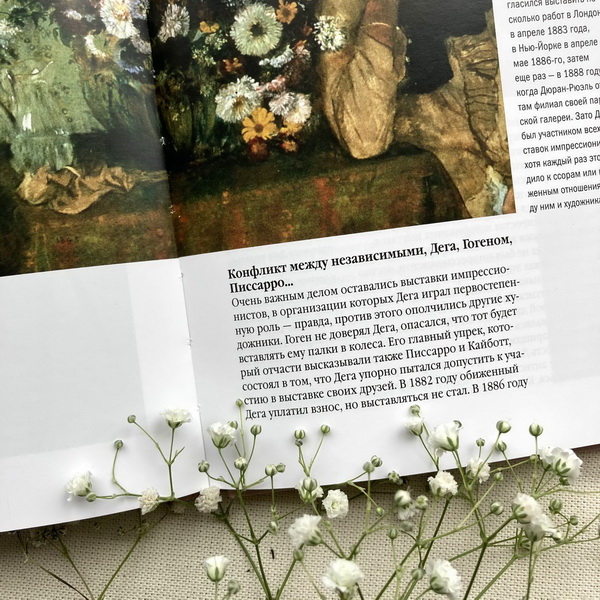
Дега и публичные дома
Из всех творений Дега монотипии лучше всего дают возможность приблизиться к самому тайному и особенному: его отношениям с женственностью и женщинами. Не вызывает сомнений, что на протяжении творческой жизни он был одержим этой темой, она притягивала его, вызывая смешанное чувство любви и отвращения. Почему монотипия оказалась откровеннее, чем другие способы выражения, использованные Дега? Ведь именно этой технике он доверил свою эротическую иконографию, хотя, похоже, его семья, составляя опись после смерти художника, уничтожила бóльшую часть «скабрезных» работ.
Благодаря своей непосредственности и живости этот способ ближе к наброску с натуры, чем к эстампу. То, что монотипия печатается на бумаге, и те неожиданные эффекты валеров и контрастов, которые при этом получаются, сближают ее с фотографией — мы узнаем, «что из этого выйдет», лишь на второй стадии операции. В этом способе есть нечто более собственническое и любопытствующее, чем в работе с натуры, где сопоставление изображения — живопись, пастель — с моделью происходит по мере создания. Щелчок затвора совершался у Дега на уровне глаз; только вернувшись в мастерскую, он по памяти или по воображению рисовал на пластине жирной тушью ту сцену, которую увидел и словно унес с собой тайком от действующих лиц.
Монотипии, несомненно, сыграли такую же большую роль, что и этюды танцовщиц, в эволюции понятия обнаженной натуры у Дега. За десять лет он проделал путь от энгровской и академической наготы «Несчастий города Орлеана» (1865) до «одетых» тел на его монотипиях со сценками в публичных домах и изображением моющихся женщин, от обнаженного тела — к раздетому.
Дега-скульптор
Скульптуры Дега, за исключением «Маленькой четырнадцатилетней танцовщицы», остались в его мастерской, где их нашли и описали лишь после его смерти. Сделанные большей частью из воска, они были в 1917 году в столь плачевном состоянии, что лишь 73 вещи из 150 найденных в мастерской удалось отлить в бронзе, после того как они были отреставрированы скульптором Бартоломе. Вот что говорил о своем увлечении сам мастер:
«Самый прекрасный, проработанный рисунок всегда недотягивает до настоящей, абсолютной правды и поэтому оставляет возможность блефа. Вы знаете тот расхваленный, впрочем более чем заслуженно, рисунок Фромантена, где он запечатлел галоп арабского скакуна, сравните его с реальностью, и вы будете куда менее поражены тем, что он передает, чем всем тем, чего в нем нет. Этой восторженной импровизации очень искусного художника недостает естественности и подлинных особенностей животного. То же самое относится и к передаче форм человеческого тела, особенно в движении. Нарисуйте фигуру танцовщицы — вы сумеете, если хоть сколько‑то искусны, на мгновение создать иллюзию, но, как бы тщательно вы ни старались ее передать, вы сможете создать лишь плоский силуэт, без ощущения масс, без объема, лишенный точности.

Вот потому теперь, когда плохое зрение не позволяет мне писать картины, когда мне доступны лишь карандаш или пастель, я более чем когда‑либо испытываю потребность передавать свои впечатления в виде скульптуры. Уткнувшись в свою модель, я ее изучаю, поочередно зарисовываю со всех сторон и передаю это все в небольшой, но основательно сделанной фигуре, которая не лжет».
По материалам книги «Дега»