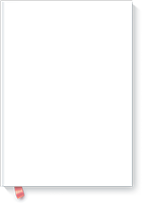Что значит стыд с точки зрения мифа и ритуала? Кого называли словом «князь»? Почему оборотня считали вещим? Из каких фольклорных сюжетов родилась пьеса «Ромео и Джульетта»? И есть ли разница между стыдом и срамом, грустью и печалью? Ответы на все эти вопросы можно найти в увлекательной монографии фольклориста Софьи Агранович и лингвиста Евгения Стефанского. Делимся отрывком из книги.
Да, весь июнь отмечаем 19-летие МИФа. Приходите на праздничную страничку, а еще найдите свой книжный компас с большой скидкой.
В поисках недостающего звена
Однажды в прямом эфире питерского телевидения, отвечая на вопрос телезрителя, почему присутствие кошки в церкви допустимо, а собаки — нет, приглашенный в студию священник сказал, что это объясняется целомудренным сексуальным поведением у кошек и бесстыдным, развратным — у собак. Разворачивая свою мысль, священник обратился к примерам из русского языка. Он привлек внимание зрителей к тому, что многие пороки как бы символизируются образами определенных животных. Мы говорим грязный как свинья, злой как собака, упрямый как осел, трусливый как заяц и т. п. Случайно или намеренно забыл батюшка такие выражения, как блудлив как кот, шкодлива как кошка, орут как мартовские коты, мы сказать не можем. Важно, что отнюдь не «нравственностью» тех или иных животных и даже не их подлинным биологическим поведением объясняется традиционное отношение к ним людей, закрепившееся в языке.
Такое отношение определяется логикой дохристианского, первобытного мышления и архаической мифологией. Один из авторов книги «Миф в слове и поэтика сказки», будучи в Польше, впервые услышал глагол psuć «портить». Естественным было предположить этимологическую связь этого глагола со словом pies «пес». Однако ни носители польского языка (среди которых были и филологи), ни российские полонисты этого этимологического родства не почувствовали. Ясность внес только этимологический словарь польского языка, подтвердивший родство, но не объяснявший его семантически.
Отсутствие семантического анализа при объяснении этимологической связи слов — недостаток многих этимологических исследований и словарей. Оставаясь только в рамках языка, зачастую и невозможно объяснить семантическую связь многих этимологически родственных слов. И потому языковед, если он не хочет вольно или невольно использовать приемы, типологически напоминающие народную этимологию, неизбежно должен выйти за рамки языка и лингвистики, обратившись к процессам формирования мышления и культуры.
А вот пример. Л. А. Булаховский, объясняя сходство семантической истории слов со значением «рот», «губы», которые во многих европейских языках получили значение «место впадения реки в море» (см. рус. устье, (Обская) губа, лат. ostium, нем. Mündung, англ. mouth), говорит о том, что образная сторона этих наименований «своим существованием обязана стойким, возникающим одновременно у многих, ассоциациям».
В частности, в сознании наших далеких предков, наблюдавших эту картину природы, по-видимому, возникал образ моря, пьющего реку. Логическая ошибка такого объяснения заключается уже в том, что устье (т. е. губы, рот) принадлежит реке, а не морю. Мы говорим устье реки, а не устье моря; Обская губа, а не губа Карского моря. Следовательно, не море пьет реку, а река через свой рот извергается в море. Таким образом, устье (т. е. губы, рот) реки кажется метафорой только современному человеку. Для возникновения подобной метафоры требовалось бы слишком смелое и высокоразвитое индивидуальное художественное сознание у массы носителей разных языков, живших в разное время и в разных культурах.
Образ реки, извергающей из своего устья (т. е. рта, губ) поток воды в море, восходит к архаической коллективной картине мира, асинхронно возникавшей у разных народов в результате сходных объективных законов формирования мифологического сознания и раннего языка. Водный источник буквально мыслился как живое существо (например, наяда). Причем это представление существовало относительно долго. Так, в Древнем Риме водоразборные колонки никогда не перекрывались. И это происходило не из-за технической отсталости: винные бочки кранами снабжались, а сами водопроводные системы были предельно сложны и технически совершенны. В частности, в них использовалась сложная система архимедовых винтов и колес для перекачки воды. Дело в том, что в сознании человека той эпохи любой источник (даже искусственный) понимался как живое существо, которое просто погибнет, если его временно перекрыть (как погибнет человек, которому пережали горло). Показательно, что водоводная труба в таких колонках оформлялась человеческим ликом, изо рта которого вытекала вода. Сейчас мы воспринимаем эти лики как освященные длительной традицией скульптурные украшения декоративных водных источников (в первую очередь фонтанов). Однако для людей той эпохи их функция была не эстетической, а сакральной. Следовательно, до тех пор пока подобные мифологические представления были живы в сознании людей, даже элементарные технические нововведения, связанные с их отрицанием, были невозможны.
Возвращаясь к рассуждениям священника о «безнравственности» собак, а также к этимологической связи польской лексемы psuć «портить» и слова pies «пес», следует вспомнить такие польские идиомы, как psia krew (букв. «песья кровь»), используемое обычно как ругательство, и psuć komuś krew (букв. «портить кому-либо кровь»), которое сейчас имеет значение «доставлять неприятности, нервировать», а в древности, по всей вероятности, имело семантику «портить наследственность связью с социально нежелательными сексуальными партнерами», которые назывались псами. Под псами (или волками) подразумевались, конечно, не животные, а определенная категория людей, переживавших так называемый «песье-волчий» период, связанный с постинициационным временем жизни первобытного человека, с особыми формами его отношения к культурному пространству обитаемого человеческого мира.
По материалам книги «Миф в слове и поэтика сказки»
Обложка поста — Freepik