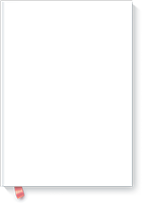Почему «Мона Лиза» собирает перед собой толпы туристов? Какая метафора скрыта в энергичном «Танце» Матисса? Что хотела сказать своими автопортретами Фрида Кало? Великое искусство не любит раскрывать секреты и всегда держит в рукаве какую-то часть смысла. Историк и культуролог Келли Гровьер в книге «Что скрывают шедевры» попытался ее найти.
Палец Джоконды

Что скрывают шедевры
Как гласит легенда, в 1852 году молодой французский художник Люк Масперо открыл окно своей комнаты на четвертом этаже парижской гостиницы и бросился вниз. В предсмертной записке он объяснил причину своего поступка: «Я годами отчаянно боролся с ее улыбкой. Лучше умереть». Есть причины усомниться, действительно ли Мона Лиза толкает художников покончить с собой, однако нельзя отрицать, что невероятно знаменитая картина Леонардо да Винчи не дает покоя тем, кто ее когда- то увидел.

Что же так завораживает поколение за поколением почти с того самого момента, когда мастер начал работать над портретом Лизы дель Джокондо, жены флорентийского торговца шелком? К ускользающей пленительности произведения обратился и английский эссеист Уолтер Патер. «Она старше камней, между которыми сидит, — пишет он. — Как вампир, она много раз умирала и познала могильные тайны». Воспринимая Мону Лизу как живущую на пороге между реальным миром, где мы ее встречаем, и миром невидимым, в котором она была и куда может в любой момент вернуться, Патер подходит к мистической разгадке опасной пленительности этого портрета ближе, чем кто бы то ни было. Произведение, говорит он, «живет только в деликатной изменчивости контуров, в оттененных веках и руках».

Указательный палец окутывают едва заметные, призрачные очертания еще одного пальца. Этот фантом большинство историков считают всего лишь «пентименто» (незначительной правкой) — Леонард сознательно изменил положение пальца, оставив след прежнего варианта. Однако на самом деле этот след существования другой руки, трепещущей за пределами нашего восприятия, крайне важен для эстетического успеха произведения. Он нарушает стабильность и заставляет нас постоянно фокусировать взгляд. Он же оставляет впечатление, что ее тело неустанно движется на фоне призрачной, мрачной дымки. Этот преследующий зрителя эффект подчеркнут сфумато, смягчающим контуры лица женщины. Она одновременно кажется частью мира, который ее окружает, и экзистенциально отдаляется от него. Все связанное с Моной Лизой вдруг начинает казаться колеблющимся между разными состояниями бытия: сиюминутным и бесконечным, частицей и волной, видимой и невидимой Вселенной.
Хрупкость человеческих связей Матисса
«Я мечтаю об искусстве баланса, чистоты и умиротворенности, лишенном беспокоящих и приводящих в уныние сюжетов… об утешающем, успокаивающем влиянии на разум», — признавался Матисс в интервью в 1909 году, сразу перед тем как приступить к первой версии «Танца». Картину заказал богатый торговец и промышленник Сергей Щукин для серии, которая должна была украсить парадную лестницу его особняка.

В памяти зрителя она может остаться как «круговерть в экстазе… в неразрывном линейном потоке», как описывал холст Матисса, переданный Щукину в 1910 году, критик Ричард Дормент, однако на самом деле именно разорванность определяет ее форму. Посмотрите еще раз на ближайшую к нам фигуру на переднем плане, голова которой расположена ближе всего к центру холста. Ее прыжок никак нельзя назвать изящным. Она как будто застыла в момент, когда вот-вот споткнется и упадет. Правая нога соскальзывает в нижний правый угол, а левая согнулась в колене, чтобы остановить неизбежное падение, и сейчас выскользнет из рамы.

Если заметить эту нестабильность, глаз сфокусируется на незаметной зацепке: фигура неосторожно выпустила руку танцовщицы, за которой движется по часовой стрелке. Всё в картине, которая несколько мгновений назад казалась радостным снимком веселой круговерти, оказывается на грани полного коллапса. Произведение вдруг начинает рассказывать не столько о темпе и ритме цветущей жизни, сколько о шаткости нашего существования, о хрупкости связей между людьми.
Мрачный автопортрет Фриды
На первый взгляд «Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри» мексиканской художницы Фриды Кало — это цепочка дурных примет, разбитое на тринадцать осколков зеркало. Один из почти пяти дюжин автопортретов, созданных Кало в течение жизни, он швыряет в зрителя горсть зловещих знаков. Это и черная кошка — символ грядущего удара судьбы, — которая пристально глядит на зрителя, выгнув спину за плечом художницы. Это и ожерелье, терновым венцом впивающееся в кожу. Оно напоминает о страданиях Христа, а не о его спасении.

Даже у самых благоприятных знаков на картине есть оттенок несчастливого предзнаменования. Колибри обычно ассоциируется с удачей, но здесь он кажется распятым. Жестко расправленные крылья птицы прибиты к шипам, которые, как удавка, медленно душат Кало. Две бабочки на голове художницы (их, как правило, считают символом перерождения), кажется, вот-вот вспорхнут. Но их взлету мешают любопытные существа, отчасти стрекозы, отчасти цветки. Они пикируют вниз и пересекают воображаемую траекторию бабочек. В жутковатом американском фольклоре стрекозы считаются «иглами дьявола», которые зашивают детям губы и глаза. Перед лицом опасности бабочки вдруг начинают защищаться, превращаются из предвестников надежды в жестокое воплощение невидимых мук, которые Кало пережила из-за того, что две ее беременности окончились выкидышем.
На первый взгляд картина Кало кажется неумолимо затягивающейся удавкой неизбежной неудачи, восходом кровавой луны. Однако приглядитесь, и вы увидите, что художница разрушает мрачную атмосферу, которая угрожает охватить ее произведение, тонким намеком, символом, способным превратить холст в эмблему неукротимой силы и отваги. Резко контрастируя с нестройным назойливым гоготом вездесущих предвестников беды, над сценой царит спокойный, хладнокровный знак восстановления порядка. Это лемниската — символ бесконечности, который, как гармоничный геометрический нимб, венчает голову Кало.

Сделанный из пурпурной ткани, отсылающей нас к средневековым изображениям Девы Марии, и вплетенный в волосы художницы так, что они становятся одним целым, этот символ вводит в портрет атмосферу математической тишины и нерушимого порядка. Само присутствие лемнискаты служит противовесом хаосу суеверий, которые борются друг с другом за господство на картине Кало. Однако этот символ не изгоняет из нее сверхъестественное, а собственным глубоким мистицизмом «удваивает ставки» и невозмутимо бьет знамения, вращающиеся вокруг героини. Этот туз — свою непобедимую силу — она приберегла в рукаве.
По материалам книги «Что скрывают шедевры»
Обложка поста — unsplash.com, иллюстрации — из книги