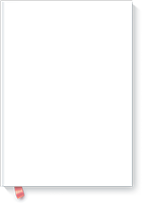Принесли отрывок из эпической новинки.
Менелай.
Вот и он.
Я помню его еще юношей, когда они с Агамемноном отвоевывали свое царство, попутно прихватывая соседние, которые, похоже, никто не собирался защищать. В то время ни он, ни его брат не считались эталонами для росписи амфор, но лишь потому, что еще не достигли того могущества, которое позволяет влиять на моду. Лишь когда они перебили врагов, захватили троны и провозгласили себя царями над всеми прочими, идеал мужественности начал меняться с высокой худощавой фигуры с рельефной и в то же время мощной грудью на более приземленные, почти прямоугольные формы, коими отличались оба брата. Тогда-то я начала понимать, в чем их сила: они достигли такого величия, что даже каноны красоты изменились в угоду им.
Итак, вот он. Мужчина, когда-то считавшийся довольно некрасивым, но силой власти, духа и оружия ставший одним из самых привлекательных в мире. Под влиянием времени его живот обвис, но плечи, мощная шея, выступающий подбородок и нос с горбинкой все еще не поддаются его воздействию. Темные кудри с отливом того же кровавого оттенка, что и его стяг, седеют на висках, и он не особенно-то тщательно ухаживает за бородой. Истинным спартанцам, как известно, не приходится работать над своей внешностью. Они либо идеальны с рождения, либо нет — и это тоже один из созданных Менелаем мифов. На нем тога цвета вечернего неба. Это тога Приама, царя Трои, снятая с его трупа, до сих пор с оставшимися на подоле засохшими каплями крови. Менелай утверждает, что ее ни разу не стирали, даже не понимая, что говорит неправду, — на самом деле ее стирали одиннадцать раз со времени падения Трои: дважды — нечаянно и девять раз — намеренно, когда она начинала вонять, а он даже не заметил и не придал этому значения.
Он не носит брони.
Менелаю из Спарты не нужна броня. Он не надел ее, когда троянцы подожгли корабли греков, кинувшись в гущу сражения прямо с койки, в одной набедренной повязке и простыне, но не став от этого менее смертоносным. Разглядывая свой нагрудник по возвращении из Трои, он пришел к выводу, что из всех вмятин и зазубрин на нем ни одна не стала бы причиной смерти, а в чем тогда смысл? Но в путешествия нагрудник отправляется с ним и всегда висит над тем троном, на котором он устроится, чтобы дать возможность поделиться своими размышлениями с любым, кто решит спросить. И все непременно спрашивают.
Именно этот человек сходит с корабля на пристань Итаки, в полной тишине, если не считать шелеста легкого ветерка. Именно этот человек проходит по коридору, образованному его воинами, впитывая взглядом все: толпу, женихов, советников, царицу. Это он, тот, кто жег крепости, умерщвлял младенцев, стоял над телами павших царей, кто за волосы отволок свою неверную царицу назад в Спарту, это он, это он — Менелай, Менелай, Менелай!
Он подходит молча к Пенелопе.
Прочие представители знати и сановники, прибывая на Итаку, обычно идут сначала к ее советникам как к представителям отсутствующего царя. У Менелая нет времени на это старичье — его взгляд устремлен прямо на царицу, стоящую в окружении служанок в покрывалах. Его взгляд скользит к Пиладу — мгновение — и уходит в сторону. По мере приближения к дамам его улыбка расцветает. «Что предвещает блеск белоснежных зубов меж полных подвижных губ? — гадают они. — Сорвет ли он с них покрывала, расцелует ли их щеки, повалит ли наземь?» Чего мясник Трои не сможет сделать с женщиной, чей муж оставил ее давным-давно?
Пенелопа не видела Менелая больше двадцати лет, с того момента, как все царевны Спарты были выданы за разных царевичей и царей. Тогда единственными его словами, обращенными к ней, стали: «Так, значит, это ты вылупилась из утиного яйца вместо лебединого?» — и все засмеялись, решив, что это очень смешно. Пенелопа тоже улыбнулась, потупившись, а позже, будучи всего лишь маленькой девочкой, рыдала у себя в комнате.
И вот он приближается.
Замедляется.
И сияет при виде нее так, словно скрывающее ее покрывало, и расстояние в двадцать лет, и война, и море, и кровь, и предательство, и нарушение всех клятв — это ничто, ничто! Дела давно минувших дней, мелочь, не заслуживающая внимания.
И раскидывает руки.
— Пенелопа! — восклицает он.
И одним взмахом загрубевших от песка рук царь Спарты сжимает свою свояченицу в крепком, удушающем объятии.
Ткань тяжело хлопает на ветру. Волна плещется о причал. Чайка негодующе кричит в вышине. Я заставляю ее захлопнуть клюв, жестом приказываю убираться вместе с сородичами подальше, глушу резкие крики стаи гнездящихся на утесах птиц, которые с писком скачут по стенам из грубого камня. Оглядываюсь, не видит ли меня кто-то из богов, — на мгновение мне кажется, что копье Афины блеснуло в толпе, но она прячется, едва оказавшись обнаруженной.
Ни один мужчина не касался Пенелопы вот уже почти двадцать лет. Конечно, ее сын Телемах, когда был совсем мал, чтобы понимать, что такое быть мужчиной, брал ее за руку, прятался за ее юбками, бежал к ней за утешением. Но те дни прошли, пусть даже он остался ребенком, который пытается отрастить взрослую бороду.
К тому же ни один мужчина не обнимал Пенелопу, сколько она себя помнила. Одиссей был не из тех, кто славится страстью ко всевозможным объятиям. А Менелай — он обвивает ее руками, прижимается бородой к ее шее, а грудью — к ее груди без малейшего намека на пошлость, без единого следа желания или движения ниже пояса и просто крепко держит, словно этим пытается помочь ей нести весь тот груз, что лежит на ее плечах.
Это и длится целую вечность, и очень быстро заканчивается.
Менелай отступает, оставляя руки на плечах Пенелопы. Сияет, сжимая их, и на мгновение кажется таким довольным этой встречей, что может не сдержаться и снова наградить ее долгим, крепким объятием, выражая свой умилительно-простодушный восторг. Оглядывается и замечает старейшин острова, толпу женихов, служанок, Пилада. Теперь он позволяет взгляду на мгновение дольше задержаться на Пиладе и улыбается, снова улыбается и кивает, как знакомому, если не как другу.
— Пенелопа! — повторяет он, с легкостью командира посылая голос над молчащей толпой.— «Пенелопа, пресветлая царица» — мне следует сказать! О небо, такая грубость, такое легкомыслие, прости старого вояку. — Он наконец разжимает руки, исполняет небольшой поклон, но и он намного значительней, чем достававшиеся потрясенной царице с тех пор… о боги, с каких пор? («С тех самых, как очаровательный египтянин появился на твоих землях, — шепчу я. — Он поклонился тебе, не зная, как положено, и, клянусь, разве это было не прекрасно?») — Я становлюсь рассеянным, — продолжает Менелай таким тоном, каким мужчина может признаться, что не следит за тогой, прикрывающей чресла. — Постоянно твержу сыновьям, что мирное время сведет меня в могилу!
Он смеется. В толпе женихов тоже раздаются робкие смешки, и взгляд Менелая тут же пронзает дерзнувших, отчего те замолкают, уставившись в землю и переминаясь с ноги на ногу: здесь не на что смотреть. На этот раз, похоже, он собирался посмеяться в одиночестве, но непременно даст знать, когда придет время разделить с ним веселье.
— Мой господин, — начинает Пенелопа свою небольшую речь, на подготовку которой она потратила немало времени, получив скромный образец ораторского искусства, точный и тщательно продуманный, — добро пожаловать на Итаку, где…
Он обрывает ее. У Клитемнестры бы челюсть отвисла; она пришла бы в ярость, оттого что мужчина посмел прервать ее, простым движением руки отмахнувшись от ее слов. Пенелопа просто сжимает губы. Пенелопа не Клитемнестра.
— К чему все эти церемонии?! — заявляет Менелай, приобняв ее за плечи и отводя подальше от свиты, словно это для служанок или для собравшихся здесь итакийцев собралась она произносить совершенно ненужную речь, а вовсе не для него, старого доброго Менелая. — Могу я звать тебя сестрой? Понимаю, это дерзость, но твой муж был моим названым братом — великий человек, великий, — и я безутешен с тех самых пор, как он пропал. Мне ужасно жаль, что я оставил тебя здесь одну. Если бы только Одиссей видел меня сейчас, он пришел бы в ярость, оттого что я бросил его жену справляться с обрушившимися на нее невзгодами в одиночестве. Мне стыдно, чудовищно стыдно. Надеюсь, ты сможешь простить меня, сестра?
Его широко распахнутые круглые глаза отливают зеленью на лице, напоминающем высохший фрукт. Пенелопа, будучи девчонкой, училась не встречаться взглядом ни с одним мужчиной, а став царицей — иногда смотреть в лицо некоторым из них, но чаще поднимать глаза вверх и чуть влево, едва ощутив на себе любопытный взгляд, с видом «ах, видите, я размышляю над высокими материями, недоступными вашему пониманию», чтобы избежать противостояния при прямом зрительном контакте. С Менелаем это не сработает. Он как штурмовой таран; его плечо прижимается к ее, как осадная лестница — к стене.
— Тут нечего прощать… брат, — все-таки удается выдавить ей. — Наоборот, это я должна принести свои извинения. Итака и Спарта долгое время были ближайшими соратниками, но после исчезновения моего супруга я оказалась слишком слаба и глупа, чтобы чтить и поддерживать наши старинные связи, как, я уверена, ему бы хотелось. Могу лишь надеяться, что в этот счастливый час…
И тут Пенелопа замечает ее.
Вся остальная свита Менелая стоит на палубе корабля, ожидая своей очереди на высадку.
Некоторых она не узнает: воинов, одного из царевичей, жреца, знатных спартанцев из сопровождения царя.
Но кое-кого из них она знает очень хорошо.
Женщина стоит вверху трапа, ведущего на пристань, ее руки расслабленно опущены вдоль тела, пальцы вложены в ладони двух служанок, поддерживающих ее, словно даже легкое покачивание корабля в гавани грозит ей потерей равновесия, являясь настоящим испытанием для изящных конечностей. Ее золотые косы увиты серебром и жемчугом, лицо покрыто свинцовыми белилами, воском, смешанным с сажей, подчеркнуты и удлинены брови, и без того имеющие идеальную форму. Губы тронуты кармином, и им же нарумянены щеки, подбородок она держит высоко поднятым, чтобы все убедились, что, несмотря на прошедшие годы, на всех рожденных ею детей, ее шея все еще похожа на длинную белоснежную шею священного лебедя, породившего ее. От ее глаз разбегаются морщинки, на бедрах и в верхней части рук появляются складки, которые она пытается скрыть утягиванием, притираниями из масел и измельченных металлов, охряной росписью и тем, как отводит плечи назад, но они все равно никуда не исчезают, ведь смертность оставляет свой отпечаток даже на тех, чья жизнь стала бессмертным мифом. Если какой-нибудь безрассудный незнакомец решится подойти поближе и принюхаться, он узнает, что от ее волос пахнет майораном, а от рук — розами. Я выдыхаю немного своей божественности, усиливая сладкий аромат, идущий от нее, чтобы даже стоящим на пристани показалось, что они уловили легкие нотки жасмина в воздухе, заметили сияние совершенства в ее мимолетной улыбке. Шепчу ей на ухо: «Добро пожаловать, любовь моя. Добро пожаловать».
Взгляд Пенелопы, кажется, прочерчивает к ней прямую, как полет стрелы, линию, притягивая все остальные. По толпе пробегают еле слышный вздох, едва заметная рябь; мужчины и женщины одинаково недоумевают, разглядывая женщину на палубе и постепенно понимая. Но этого точно не может быть, думают они; подобное ведь совершенно невозможно! Не на Итаке, не на этих пропахших рыбой островах, где самым интересным событием за долгое время может стать поимка исключительно большого кальмара. Это же она? Правда она?
Первым, не выдержав, подает голос Пейсенор, полузадушенным шепотом повторяя этот вопрос на ухо стоящему рядом Эгиптию: — Это же не?..
— Так и есть, — шепчет в ответ Эгиптий.
— Всемогущий Зевс, сохрани нас.
Отрывок и обложка статьи из книги «Дом Одиссея».
Где купить книгу: