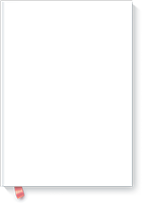Закрытая школа для девочек в Дэллоуэй хранит свои мрачные тайны. Туда возвращается 18-летняя Фелисити: год назад здесь, отчасти по вине Фелисити, погибла ее близкая подруга, чей образ все еще преследует ее в темных коридорах кампуса. Девушка знакомится с новой одногруппницей Эллис — популярным автором детективов, и тут начинается странное… Кажется, кто-то затеял жестокую человеческую игру?
Публикуем отрывок из романа «Урок возмездия» (18+).
***
Школьные занятия всегда начинаются как-то сразу.
В отличие от других школ Дэллоуэй допускает удивительную свободу в выборе предметов для изучения. У нас есть общий образовательный стандарт, преподаваемый по методу Харкнесса — всё через обсуждение. Закончившим второй год обучения рекомендуется сконцентрироваться на самой интересной теме, которая постепенно станет базой дипломной работы. В Дэллоуэе есть ученицы, которые бóльшую часть учебного года проводят на стажировке в соседней аэрокосмической лаборатории, а есть такие, кто днюет и ночует на классических занятиях и говорит только на древнегреческом. И еще есть мы: литераторы, книжная интеллигенция, питающая слабость к очкам в роговой оправе и пахнущим пылью страницам.
Я не заявила тему дипломной; думала, что хотя бы несколько недель это сойдет мне с рук, что сочувствие администрации к Алекс или хотя бы их отвращение к моейпрошлой теме выразится в послаблениях и электронных письмах с разрешением «Не торопитесь». Мне следовало уточнить этот вопрос. Но, как оказалось, я медленно учусь.
Уайатт вызывает меня в свой кабинет в первый день занятий и вручает банку фирменной газировки; она держит ее в маленьком холодильнике под столом из красного дерева, и эстетика холодной алюминиевой жестянки на фоне этого стола и антикварного ковра приводит меня в состояние тревожного смущения.
— Итак, — произносит Уайатт, водружая на переносицу очки для чтения. — Я считаю, как и сообщила тебе в элек-тронном письме, что лучше всего, если мы подберем новую тему для твоей дипломной работы. Да?
— Да. — Будучи в Сильвер-Лейк, я привыкла говорить то, что люди хотели услышать. «Да», она хотела услышать именно это. — Я не хочу выбрасывать то исследование, что уже сделала, поэтому подумываю остаться в похожем жанре. Ужасов.
Уайатт медленно кивает.
— Хорошая ли это идея? Жанр ужасов может быть… очень страшным.
— Сейчас мне уже лучше, — успокаиваю я ее. — Я даже смогу читать Хелен Ойейеми. Обещаю.
Кончик ручки Уайатт отбивает короткую дробь по краю стола. Я со щелчком открываю газировку и делаю маленький глоток; газировка с тропическим вкусом синтетического апельсина с шипением взрывается на моем языке. По вкусу как формальдегид.
— Очень хорошо, — наконец произносит Уайатт.
Я не ощущала, насколько была напряжена, пока она не сказала это — и сейчас я чувствую, как мое тело расслабляется в кресле и опускаются прижатые к ушам плечи.
Прежде я никогда не была слабой и испуганной. Я не привыкла чего-либо бояться.
— Разумеется, твоя дипломная работа должна быть более конкретной. На какой вопрос ты попытаешься ответить в этой работе?
— На тот же самый. — Сейчас уже проще. Подготовленная заранее речь срывается с моих губ. — Жено-ненавистничество и характеристики женской эмоциональности в литературе ужаса. Тема будет описана сквозь объектив интеллектуальной истории. Как эти произведения соотносились с социальными нормами и нравами своего времени? Как на них повлияли ведущие к изменениям исторические события и литература? И как, в свою очередь, они сами влияли на историю и литературу?
— Как менялось восприятие женских эмоций на протяжении всей истории, — переводит Уайатт.
— Как это видели писатели жанра ужасов в то время.
Я получаю поощрение в виде одной из редких улыбок Уайатт. Она снимает колпачок с ручки и подписывает мою заявку на тему, а затем возвращает листок мне и говорит:
— С большим нетерпением жду, когда смогу прочитать вашу работу, мисс Морроу.
Когда я покидаю офис Уайатт, то начинаю задаваться вопросом, не сделала ли я ошибку. Если читать о ведьмах было глупо, то читать о призраках, безусловно, еще глупее. С тех пор как я вернулась сюда, я чувствовала присутствие Алекс. И сколько бы я ни говорила себе, что призраков не существует, мой страх не ослабевает.
От солнечного света у меня кружится голова, тепло пощипывает кожу и распространяется лихорадкой по телу.Теряя равновесие, я хватаюсь за поручень и остаюсь стоять у подножия лестницы. Ученицы обходят меня, словно вода обтекает камень, не замечая.
Я знала, что после смерти Алекс возвращение в Дэллоуэй будет трудным. Но я не ожидала, что почувствую запах ее духов, оставшийся на кресле в Годвин-хаус, или холодок, пробегающий по спине, когда я прохожу мимо ее бывшей комнаты.
Я не ожидала, что почувствую себя настолько… потерянной.
Я так и слышу голос доктора Ортеги, настаивающий на том, что мне ни в коем случае не стоит прерывать лечение. Что я не готова, что я абсолютно, в том числе и физически, нездорова. Она сказала бы мне, что все пройдет, если я буду хорошей, послушной девочкой и проглочу все, чем они меня пичкают.
Все эти старые призраки поблекли бы и умерли при дневном свете — если бы я просто делала то, что мне сказали.
Но я устала быть хорошей девочкой. Я устала подчиняться.
Мне не нужна нянька. И определенно не нужна женщина, которая благодаря степени в медицине смогла получить теплое местечко в дорогой частной клинике и которая говорит мне: «Это будет трудно» и «Это была не твоя вина».
Не кажется, что кто-то еще согласен с моим решением. Уайатт обращается со мной очень мягко, как и остальные. Иногда мне становится интересно: что будет, если я просто перестану с ними взаимодействовать.
Когда я возвращаюсь, в вестибюле Годвин-хаус оказывается Леони. Она вздрагивает, когда я пинком захлопываю дверь; она ждала меня.
— Привет, — говорит она.
— Привет.
— Как прошел первый день занятий?
— Прекрасно. — Не знаю, почему она заговорила со мной. Незнание рождает подозрительность.
— Мы готовим ужин на кухне. Если ты хочешь… — Кажется, она не может подобрать слова, чтобы закончить предложение, поэтому просто таращится на меня большими карими глазами.
Мне хочется оставить ее здесь, такой неловкой и неуверенной. Это было бы чем-то вроде дружеской мести — расплатой за ту ужасную ночь в комнате отдыха, за невидимую стену, которой эти четверо отгородились от меня.
Но я не позволю им сделать меня такой, поэтому уступаю.
— Конечно я помогу.
Я точно знаю, что эта идея — не Леони. Все придумала Эллис. Это единственное объяснение, единственная причина, по которой любая из них согласилась бы долго терпеть мое присутствие без особой необходимости. Но, когда я вхожу в кухню, они все там — острые локти, забрызганные бульоном кулинарные книги и деревянные ложки, стучащие по столешницам, — и Каджал передает мне клетчатый фартук. Сейчас мне легко находиться среди них.
— Мы готовим равиоли с грибами и бальзамическим соусом, — говорит Клара, головой указывая на деревянную корзину с грибами шиитаке рядом с собой. Она уже нарезала примерно полфунта, испачкав разделочную доску землей.
— Я не очень хорошо готовлю, — признаюсь я.
Эллис поднимает на меня взгляд, стоя на углу кухонного островка; стальная спагетница прикреплена сбоку стола. Вдоль щеки Эллис тянется полоска муки.
— Мы все тоже. Но нам нужен кто-нибудь на лепку равиоли, если ты считаешь, что справишься.
Я справлюсь.
В кухне возобновляется разговор, будто они снова ставят иглу на виниловую пластинку и продолжают с того места, где прервалась мелодия.
— Не могу поверить, что я в этом году у Линдквист, — стонет Клара из своего места в углу. В кухне слишком много девушек и слишком мало дел, поэтому, закончив с грибами, Клара раскрывает на коленях свои книги и вертит в руках авторучку.
— Она меня ненавидит.
— Ты же в прошлом году была у Янг? — спрашивает Каджал.
— Да. А теперь меня безжалостно вышвырнули.
— Янг консультирует только первый и второй курс, — поясняю я, прищипывая край равиоли. — Линдквист, МакДональд и Уайатт консультируют всех.
— Я знаю, — вздыхает Клара, — но я надеялась, что она сделает исключение.
Так похоже на разговоры, что мы обычно вели в Годвин-хаус до моего ухода. Хотя наши, наверное, были более злыми; мы создали некий рейтинг преподавателей английского языка школы Дэллоуэй, учитывающий такие показатели, как несговорчивость, интеллект, подозрительность к различным оправданиям задержки работ и вероятность смерти от старости до конца семестра. Линдквист была в начале нашего списка, МакДональд — в конце (хотя, если честно, не в ее пользу был тот факт, что она жила в Годвин-хаус и точно знала, что наши эссе запаздывали потому, что мы всю ночь развлекались на вечеринке, а не из-за того, что наша третья бабушка умерла).
— А ты у кого? — встретив мой взгляд и несмело улыбнувшись, спрашивает Леони. Я улыбаюсь в ответ, хотя все еще подозреваю, что она благожелательна по приказу Эллис.
— Уайатт.
— Каджал тоже у Уайатт, — говорит Леони, указывая на Каджал, которая тонким ножом крошит очередной зубчик чеснока и не смотрит на нас.
Я не привыкла чувствовать себя неуверенно на людях. В первый год в Дэллоуэе — год перед тем, как все полетело к черту вместе с Алекс, перед тем восхождением и его результатом, моим уходом с занятий — меня любили. Ну, если не любили, то по меньшей мере завидовали: моя мать каждый месяц переводила мне огромные суммы и не интересовалась, как я их трачу, поэтому я транжирила всё на сшитые на заказ платья, прически и воскресные поездки в город с подругами из Годвина. И хотя я была не самой богатой девушкой в Дэллоуэе, мой подход к трате денег дал мне определенный иммунитет в разрезе социальных ошибок. У всех бывают неловкие моменты; мне прощали мои.
«По крайней мере мне не пришлось покупать себе друзей», — сказала Алекс в ночь своей смерти, с пылающими от ярости щеками; и даже тогда я знала, что она права.
Но покупать дружбу Эллис или ее шайки у меня нет никакого желания. Сейчас мне трудно заботиться о социальной иерархии.
Алекс бы гордилась.
— О чем твоя дипломная? — спрашиваю я у Каджал, потому что больше не считаю притворное безразличие доказательством превосходства, и она поднимает глаза — кажется, удивлена, что я все еще с ней разговариваю.
— Женщины — мыслители и философы эпохи Просвещения, — говорит Каджал. — Салонная литература. Маколей, д’Эпине , де Гуж, Уоллстонкрафт…
— Мэри Эстел? «Серьезное предложение»*?
* «Серьезное предложение дамам» — труд английской писательницы Мэри Эстел (1666–1731), отражающий новый взгляд на женское образование и вопросы необходимости брака.
— Разумеется. — Каджал заметно расслабляется; она нарезает чеснок быстрыми, четкими движениями. — На мой взгляд, она чересчур религиозна, но думаю, в то время это было неизбежно.
— Хотя этот достаточно картезианский подход** породил ее концепцию добродетельной дружбы, — говорю я, —поэтому не нужно слишком сильно осуждать ее.
**Картезиа ́нство — направление в истории философии, для которого характерны скептицизм и рационализм.
Каджал пожимает плечами.
— Именно так, — Эллис вмешивается в разговор, — как сказала сама Эстел, «было бы хорошо, если бы мы могли заглянуть в глубину души любимого человека, чтобы обнаружить, как она похожа на нашу собственную».
Мой взгляд ловит легкую улыбку, тронувшую уголки губ Эллис, — на какой-то миг ее взгляд сталкивается с моим, и она вновь принимается за тесто.
— Мне нравится леди Мэри Чадли***, — из угла сообщает Клара; на ее щеке темнеет чернильное пятно.
*** Мэри Чадли (1656–1710) — английская поэтесса, поднимавшая в своем творчестве преимущественно темы человеческих отношений и феминизма.
— Хмм, — говорит Эллис. — Я всегда находила Чадли не очень оригинальной.
Бледное лицо Клары становится пунцовым, она бормочет:
— О. Ну, я имела в виду… да, она явно находилась под влиянием Эстел, поэтому…
Эллис молчит, и Клара краснеет еще сильнее. Я не очень понимаю, почему ее так расстраивает возможность неодобрения со стороны Эллис, но опять же я и не претендую на то, чтобы понять тот культ личности, который создали новые члены Годвин-хаус в отношении Эллис.
— Я полагаю, Чадли сама это признавала, — говорю я, слепив очередную порцию равиоли и опуская ее в миску. —Клара, ты могла бы загуглить это с помощью своего телефона.
Саркастический взгляд Клары в мою сторону прожег бы даже сталь.
— У меня нет телефона.
— Ни у кого из нас нет, — добавляет Леони. — Технологии так отвлекают. Я слышала, что сейчас люди разучилисьбыть внимательными, потому что все читают онлайн.
Я поворачиваюсь к Эллис, но она отошла к раковине и начала мыть посуду. Без сомнения, это она так развлекается.
Я заканчиваю лепить равиоли и вытираю испачканные мукой руки о фартук. Не то чтобы я сильно была привязана к своему телефону, но… все же не могу представить, как обходиться совсем без него. В соцсетях я не слишком активна, но мне действительно нравится слушать музыку во время пробежки. Мы с Алекс постоянно писали друг другу, прятали телефоны под партой или между книгами: «Этот урок никогда не кончится» и «Идем в горы в этот уик-энд?» и «Причешись — ты похожа на ежика».
Может быть, без этого всего жить намного проще.
Мы едим в столовой, стол из красного дерева покрыт белой скатертью, горящие свечи возвышаются среди обилия потрескавшейся посуды. В этот раз я тоже говорю немного, но в отличие от первой ночи в комнате отдыха я не чувствую себя изгоем. Я здесь, за столом вместе со всеми, сижу между Леони и Кларой, воду мне налили из той же бутылки, что и им. Серые глаза Эллис встречаются с моими, когда Каджал вслух вспоминает, как быстро Эллис покинула вечеринку в Болейн. Мимолетная улыбка — и она отводит взгляд.
МакДональд с нами нет. В прошлом году она была бы. Интересно, это больше из-за Эллис или из-за меня?
— Идем? — говорит Эллис, когда мы все заканчиваем ужинать.
Она ведет нас в комнату отдыха. Там Каджал достает с полки тонкую книжку стихов в зеленом кожаном переплете, а сама Эллис извлекает из низкого шкафчика хрустальный графин с бурбоном и со звоном ставит его на кофейный столик.
— Что это? — Леони поднимает брови.
— Бурбон. Castle and Key. — говорит Эллис, выставляя пять стаканов в ряд на краю стола. — Самая первая бочка. Моя сестра купила его для меня, когда прошлой зимой ездила на винокурню; новые владельцы проделали фантастическую работу по восстановлению производства Old Tailor.
Я не имею представления, как истолковать слова, слетевшие с губ Эллис. Но она обсуждает бурбон так, будто знает, о чем говорит, ее протяжный южный акцент звучит спокойно и уверенно, словно она такой же большой эксперт в области виски, как и в сфере литературы.
Она смотрит на меня:
— Тебе нравится «Олд Фэшн», Фелисити? — Держа в руке маленькую коричневую бутылочку, Эллис пипеткой наливает в каждый стакан темную жидкость.
— Что такое «Олд Фэшн»? Звучит как-то… старомодно*. Эллис смеется:
* Игра слов: с английского языка название коктейля «Олд Фэшн» переводится как «старомодный».
— О, тебе очень понравится. Садись.
— Эллис кайфует от виски, — сообщает мне Каджал, поднимая безупречные брови. Она произносит это так, словно провела с Эллис достаточно времени, чтобы узнать все о ней и ее кайфе. — Говорят, что герой ее новой книги любит виски. Это значит, что Эллис должна любить виски.
— Как можно понять внутренний мир персонажа, если не разделять его жизненный опыт? — насмешливо произносит Эллис. В одной руке у нее нож, в другой — апельсин, из-под лезвия вьется лента кожуры. — Если вы просто придумали ваше произведение, не пережив его, — читатель это почувствует.
— Значит, актерский подход, — подытоживаю я.
В ответ получаю язвительную усмешку.
— Точно. Писательский подход. — Эллис сжимает кожуру над ближайшим к ней напитком; стакан наполняется легким туманом.
— Однажды Эллис две недели спала на улице зимой в Канаде и покупала героин у дальнобойщика в придорожном туалете, — говорит Клара.
Мне очень трудно в это поверить. То, что Эллис Хейли выдает за интересные истории, можно прочитать в любом литературном журнале — преувеличенно-драматичные для пущего эффекта; ни один родитель не позволил бы своему ребенку-старшекласснику совершить что-либо подобное.
Но Эллис этого не отрицает. Потому что этого не было?
Или потому что было?
Эллис доделывает коктейли и раздает нам. Хрустальный стакан тяжело лежит в моей ладони. Эллис, устроившись на подлокотнике дивана, открывает книжку стихов и начинает читать из Сент-Винсент Миллей: «Смерть, мое сердце склонилось пред Вами! О, мама!..»
Я поднимаю стакан и делаю глоток. «Олд Фэшн» оказывается на удивление горьким, крепость виски разбавлена чем-то дымным. Сладость проявляется лишь в послевкусии. Я не уверена, что мне это нравится.
Судя по выражению лиц других девушек, я не одинока.
— «Это красное платье — для тебя стало саваном». — Эллис передает книжку Леони, которая листает ее свободной рукой и выбирает другое стихотворение. Мы перемещаемся по комнате, каждая читает что-нибудь на выбор; когда приходит моя очередь, я выбираю Дикинсон. Судя по взгляду, который из-под густых ресниц бросает в мою сторону Эллис, думаю, она и меня считает незатейливой, как Мэри Чадли.
Мы передаем книгу по кругу шесть раз, и когда все уже устают от поэзии, Эллис варит кофе и вовлекает нас в оживленный спор о рекурсивной женской природе рождения и смерти. Леони и Клара у открытого окна передают друг другу сигарету, ночной ветерок играет каштановыми волосами Клары, а Леони подсовывает ноги в носках под ее бедро. Каджал спит на диване, закрыв лицо книгой «Дорогая жизнь». Эллис читает в кресле, зубами она покусывает нижнюю губу, пока та не становится ярко-красной. Я возвращаюсь наверх, в молчаливый сумрак своей комнаты. Но теперь затененные углы не таят в себе угрозы.
Я вытягиваю карту: Рыцарь Кубков. Моя комната пахнет духами Алекс.
Среди книг на полке спрятаны все письма, что она мне адресовала, записки, переданные на уроке, открытки, присланные по почте из тех невыносимых походов, в которые она отправлялась с матерью. Я прикалываю одну из открыток к стене возле зеркала. Подпись подруги — большая затейливая «А», острые согласные — бросается мне в глаза.
Алекс мертва. И, может быть, ее дух сейчас здесь, бродит по кривым коридорам Годвин-хаус. Я оборачиваюсь к пустой комнате и говорю:
— Я тебя не боюсь.
Из книги «Урок возмездия»